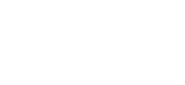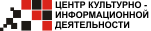Евгений Гельфонд: «Без любви ничего начинать не стоит»
Новый художественный театр чаще всего предстаёт перед челябинской публикой каким-то особенным, мистическим, загадочным, держится будто бы особнячком, но в то же время является центром театральной жизни. Здесь проводятся различные фестивали («CHELoBEK TEATPA»), сюда съезжаются театральные деятели со всей страны. Но главное, почему НХТ купается в зрительской любви, – камерные постановки о людях, о человеческой натуре.
С художественным руководителем одной из самых загадочных площадок челябинской Мельпомены мы встретились во время очередной репетиции. Евгений Гельфонд ненадолго позволил нам заглянуть за кулисы театра, который, словно дом, бережно хранит ту особенную атмосферу, сформированную за 30-летнюю историю.

В зале идёт репетиция и слышно, как актёры подают драматические реплики.
- Евгений Михайлович, что вы сейчас репетируете?
- Спектакль по пьесе «Сердце не камень» Островского. Скоро у нас премьера – 8 декабря. Мы решили поставить спектакль в честь юбилея Александра Николаевича Островского. Выиграли грант Союза театральных деятелей РФ и Министерства культуры РФ. Делаем спектакль на средства этого гранта. Репетиции идут полным ходом.

- О чём спектакль?
- О том, что человек хороший. Грехи плохие (смеётся). Это мудрая зрелая пьеса Александра Николаевича. Он уже не такой беспощадный по отношению к женщинам. Он уже их не скидывает с обрыва, не стреляет в них. Снисходителен.
- В этом году Новому художественному театру исполняется 30 лет. Такая солидная дата. Не кажется ли вам, что слово «новый» уже не совсем подходит к названию театра? Или это слово отражает какое-то другое понятие?
- Да, мы открываем юбилейный сезон. 7 октября 2023 года нам исполняется 30 лет. Ну, это такая «эстетическая» позиция. Я, в частности, приверженец русской классической школы театра, и для меня Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко – это не просто какие-то там давно жившие и устаревшие люди. Для меня они связаны с современнейшими театральными методиками, которые нужно ещё изучать и изучать.

- То есть можно сказать, что «новый» – это всегда актуальный, не устаревающий
- Да, в этом смысле. Потому что наследие наших корифеев русского драматического театра, которое сформировалось в конце XIX – начале XX века и продолжилось потом в середине XX века, к сожалению, в последние десятилетия незаслуженно отодвинуто в сторону. В основу взяты какие-то принципы западноевропейского театра XX века, собственно говоря, и забыто то, что корифеи этого же самого западноевропейского театра, которые его формировали в середине XX века, брали из русской классической режиссёрской школы театра – Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда. Всегда хорошо, конечно, когда начинаются разработки новых методик, принципов театральности, но в России полумер никогда не бывает. Поэтому у нас 30 лет назад сказали, что Станиславский – это ерунда, мы будем изучать Арто (Антоне́н Арто́ – французский писатель, поэт, драматург, актёр театра и кино – прим. ред.), Гротовского (Ежи Мариан Гротовский – польский театральный режиссёр, педагог, теоретик театра – прим. ред.) и так далее. И это бы ещё полбеды. А возьмём всяческих последних по времени деятелей... Я не говорю, что они плохие, просто мне кажется, что не всё уместно на нашей русской почве.
- А что уместно на русской почве?
- Русский театр – это театр о человеке и про человека. Западноевропейский театр более социален, в нём рассматриваются в основном некие социальные механизмы. И это всё почему-то называется метафизикой. Хотя к метафизике имеет отношение всё-таки больше человек, нежели его социум, понимаете? Поэтому, мне кажется, название наше и наша эстетическая и этическая позиции опираются на русскую школу театра, и мы всегда об этом говорим. И когда было время этого стесняться, мы не стеснялись и назвались так в 1993 году. Тогда фамилии Станиславский и Немирович считалось почти «матерными». Ну а те, кто так считал и считает, ни черта не понимают в театре!
.jpg)
- Большую часть существования театра вы были в нём. Вы с 2003 года – главный режиссёр театра, а с 2007 года являетесь его художественным руководителем. По сути, НХТ – это вы?
- Ну, почему? Нет! НХТ – это всё-таки коллектив. НХТ всегда позиционирует себя как театр-дом, который живёт по определённым принципам. Он у нас дом, семья, поэтому мы действительно подбираем людей, которые близки по духу. Это основной принцип театра. То есть мы не занимаемся производством спектаклей. Мы занимаемся их рождением, взращиванием, их зрелостью и их похоронами.
- Похоронами?
- Естественно. Бывает, что спектакль должен уйти. И он уходит.
- Вы его как-то провожаете? Есть церемония?
- Нет, просто мы понимаем, что наверное всё. И это видно и по артистам, и по мне, что вот этот материал мы исчерпали. Его может ещё кто-то делать потом, но мы больше нет. Спектакль уходит.
- Это грустно?
- К этому надо относиться с понимаем. Так же, как и к тому, что уходят люди из театра. Значит, на каком-то этапе они стали не близки по духу. Это тоже нормально. Приходят другие люди. То есть здесь дом живёт свей жизнью, он дышит, он существует как человек.
- На сайте НХТ есть принадлежащая вам цитата: «Для меня Новый художественный театр – дом и территория для исследования самого себя, тех процессов, которые происходят в жизни, в обществе, в современности. И, конечно, та территория, где ведёшь диалог с авторами, ищешь красоту и Бога». Поясните, пожалуйста, что значит в данном случае «найти Бога»?
- Ну, мы же не можем делать спектакли только потому, что они социально необходимы, понимаете. Всё-таки материал приходит неожиданно, как наваждение. Ты читаешь пьесы, читаешь авторов и в какой-то момент понимаешь, что произведение тебе нравится, но ещё не пришло его время, ты не вступил с ним в диалог... А в конечном счёте, вдруг автор или пьеса начинают тебя «преследовать», и ты этот диалог начинаешь. А на основе чего ты его ведёшь? На основе тех вопросов, которые ты сегодня задаёшь самому себе. Что-то пытаешься разглядеть сам в себе и в мире. И в этот момент тебе на помощь приходят авторы, и вот начинается этот незримый разговор. Он не всегда приятен. Он не всегда мирный, бывает достаточно жёсткий, неуютный совсем. Но, видимо, именно тут и рождается «момент». И ты, как режиссёр, призываешь сюда свою команду для того, чтоб разобраться в этом диалоге. Начинается работа, исследование. Мы (кто-то на одном вопросе, кто-то на втором, кто-то на третьем) начинаем резонировать. И в конце концов отвечаем на вопросы или не отвечаем, или пытаемся ответить.
- То есть, когда вы начинаете готовить спектакль, вы не видите его конечную точку?
- Никогда не вижу. Этот процесс начинается каким-то таким смутным представлением, мучительным чувством... То есть это мистика, она присутствует в жизни человека всегда. У нас привыкли делить, что вот это социальная, психологическая жизнь, а вот это мистическая жизнь. А если мы посмотрим объективно и честно, то увидим, что это всё всегда вместе. Мы увидим, что какие-то связи и закономерности не случайны, и в этом нет чего-то инфернально страшного. Потому что реальная человеческая жизнь связана с гранями, которые мы можем осознавать, и с гранями, которые познать не можем, однако всегда, в силу своего пытливого ума и бьющегося сердца, пытаемся туда «пролезть». Нас не пускают, щёлкают по носу, но мы всё равно лезем. Но когда-то случается так, что в этом процессе постижения нам открывается красота.

- А вы верите в театральные приметы? И есть ли они у вас?
- Я пытаюсь верить в Бога всё-таки. Поэтому всё, что связано с традициями моей православной веры, стараюсь соблюдать, естественно... Например, я знаю, что в Страстную неделю играть спектакли совершенно бесполезно. По крайней мере, спектакли определённого рода. Мы можем сыграть, например, Достоевского… Потому что всё равно в это время и мысли твои, и чувства обращены в другое… Театр всегда стремится немножко к ритуалу, но он никогда не будет ритуалом. Потому что он сам по себе уже вторичен. И мы уже воспроизводим, затеваем некую игру с ритуалом. Мы взаимодействуем с автором и уже вторичны, мы не можем быть первичным элементом, как храм или какие-то духовные институты. Мы всё-таки больше душевный институт, мы отвечаем на вопросы, связанные с тем, что мы можем пытаться осознать.
- Если вернуться к вашему выражению о том, что театр – это дом, а в каждом доме желательно должна жить любовь. Вам любовь помогает при работе с артистами?
- Конечно! Без любви вообще ничего не стоит начинать. Однако она не должна быть такой сусальной – целовашки-обнимашки. Эта любовь творческая, любовь по отношению друг к другу в работе, терпимость друг к другу со всеми нашими недостатками, сложностями, потому что все люди сложные. Другой вопрос – когда эти сложные человеческие качества переходят в рабочие и творческие моменты – это всё равно, что торгующих пускаешь в храм, простите за не очень хороший пример. И ты просто расстаёшься с людьми, потому что не пускаешь их на свою творческую территорию, просто не желаешь с ними быть. Но ты можешь продолжать прекрасно к ним относиться, только осознаёшь, что лучше с ними не работать, потому что не будет этой самой любви, о которой вы говорите, любви в творчестве.
- Некоторые кинорежиссёры в работе с актёрами используют довольно жёсткие методы. Например, Альфред Хичкок намеренно запугивал актрис, чтобы те лучше изображали ужас. Используются ли вами подобные методы в театре? Насколько далеко вы заходите, работая с артистом, когда понимаете, что он ещё не раскрылся, и вам надо «достать» из него определённую эмоцию?
- Это очень тонкий момент, ведь ты с человеком общаешься, ты с его душой работаешь, ты лезешь в душу в результате. И какого-то одного определённого приёма не существует. Нельзя сказать, что, доводя каждого до слёз, ты всех их «раскроешь». Кто-то может так «запахнётся», что ты больше вообще его никогда не раскроешь. Это живой процесс. Бывает, что просто оставляешь артиста и ждёшь. Важно чувствовать момент, чувствовать человека и его податливость. Но главное, что ты должен сделать, – это создать условия для того, чтобы актёр прекратил сидеть в гнезде как птенец, раскрыв клюв. Чтобы он перестал ждать, когда волшебник-режиссёр принесёт ему червячка, которого он сожрёт и начнёт творить. Нет, так не будет. Он должен сам добывать пищу и приносить её. Он может ошибаться, но делать. Мой метод – заставить «добывать». В этом принцип моей работы. И если человек не желает «добывать» и пришёл сюда, чтобы ждать волшебных «подарочков», то работа не получится. И такие расставания были. Я какое-то время подожду, но, если я увижу, что артист не охотник, не добытчик, он не несёт сюда идеи, которые улавливает в воздухе, значит делать с ним нечего. Значит, он должен идти в другой театр.

- В какой?
- В театр, в котором работают хорошие постановщики, который предназначен для большой по численности аудитории, для массовой аудитории. В театр, который занимается чистым производством. Я не говорю, что это плохо. Это тоже нормально. Там нужны актёры, которые хорошо поют, хорошо двигаются, у них есть талант, но при этом они говорят: «Вы мне скажите, что я здесь делаю». Вот как только артист задаёт мне такой вопрос, я говорю: «Не знаю». Потому что артист не должен это спрашивать. Он должен прийти и знать, что он здесь делает. А дальше мы уже будем смотреть, правильно он делает или нет. Конечно, он будет ошибаться. Но он должен делать, должен быть способен к деланию. Как ребёнок, если он не научится сам делать что-то, то он потом вырастет и ничего не будет делать дальше. Пусть учится, пробует, разбивает что-то, условно говоря. Надо его направлять. Тут работают очень простые механизмы. Сначала у них ничего не получается, потом находится слово, момент, когда он попадает и начинает работать. Много таких примеров на моей практике, когда артисту много было дано: и физическая форма, и природная красота, но в какой-то момент он просто останавливается и превращается в «жирного птенца», который сидит и просит роль, но ничего не делает. И тогда ты начинаешь его подстёгивать, мол, ну-ка, давай, двигайся. И это бывает как с начинающими, так и с опытными артистами, к сожалению. А потом ты видишь падение. И тогда всё заканчивается.
- Давайте поговорим о ваших победах. В этом году у вас выдалось удачное фестивальное лето, вы получили несколько театральных наград. Вы ведь тоже ездили с труппой? Расскажите, какие были трудности.
.jpg)
- Да, я всегда езжу с труппой, поскольку спектакль нужно приспособить к новому пространству. Это непросто, потому что площадки и залы разные, всё это чрезвычайно сложно. В этом году мы были на двух фестивалях – в Сергиевом Посаде на замечательном фестивале «У Троицы» и в Вологде на не менее замечательном большом фестивале «Голоса истории». В Сергиевом Посаде мы сыграли один спектакль, там мы хорошо приспособили площадку к своему спектаклю. Я очень доволен тем, как всё прошло. В Вологде было чуть посложнее, там мы сыграли три спектакля: «Саня, Ваня, с ними Римас» по Гуркину и один раз Ксения Бойко выступила с моноспектаклем «Триптих для одной актрисы» по пьесам Н. Мазур. Там было сложнее приспособиться под площадку. Возможно, нам не хватило времени, там очень крутой амфитеатр. Хотя, да, ребята вытащили спектакль. Ещё мы играли в Череповце – там уже получше приспособились к площадке, было неплохо. Вообще, встать со спектаклем на другой сцене – это уже отдельная история.
- Это интересная задача?
- Это задача трудная, потому что часто не хватает времени. Тебе не дают сутки до выступления. Ты приезжаешь, и в этот же день нужно поставить декорации, параллельно думаешь о том, что надо изменить. Часто возим с собой какие-то дополнительные доски, ткани и прочее. Потому что бывают площадки, предназначенные для исполнения каких-то больших крупных форм, музыкальных проектов, фееричных спектаклей на массового зрителя. У нас спектакли несколько другие, они подразумевают погружение, работу артиста крупным планом. А тут смотришь – и картинка «мёртвая». И эти нюансы необходимо исправлять. Приходится придумывать, как «приблизить» сцену к зрителям, чтобы артист был близко. Не территориально близко, а «внутренне».

- Какой ваш любимый спектакль?
- Спектакли – они как дети, они не могут быть любимыми или нелюбимыми. Они все со своими плюсами и минусами, сложностями, проблемами, вызовами. Каждый спектакль по-своему любишь и по-своему не любишь. Потому что разные спектакли тебе время от времени устраивают «фендибоберы». Спектакль складывается, живёт так же, как и ты. Не каждое твоё чувство или открытие, которое сегодня тебе казалось очень актуальным, нравится тебе завтра. Это когда ведёшь личный дневник, читаешь записки трёхлетней давности и думаешь: «Что за дурак это написал?»
- А вы потом меняете спектакли?
- Конечно, меняешь, но не всегда получается, иногда они сопротивляются. Это тоже процесс работы с живым материалом, подчас артист готов что-то поменять, но у него не всегда получается. То есть это тоже целый процесс: я смотрю спектакль – корректирую. Это как с детьми: родить ребёнка проще, чем его потом воспитать. И в каждом возрасте свои «приколы».
- В вас есть самоцензура и границы, за которые вы никогда не выйдите в работе над спектаклем? Чего нельзя показывать? Над чем нельзя смеяться или плакать?
- Конечно, есть. Это всё связано с моментами твоей духовной, гражданской и нравственной позиции. Чего нельзя делать точно – поступаться твоими человеческими принципами ради того, чтобы угодить моде, тренду. За последние несколько лет в театрах появился ряд трендов, соответствуя которым ты точно будешь «на волне».
- Например, какие?
- Это и моменты русофобии, и нетрадиционных сексуальных отношений. Нелюбовь к государству. Пренебрежительное отношение к русскому человеку. Все эти тренды знают те, кто работает в театре. Но кто-то поступается собственными принципами ради того, чтобы угодить определённой аудитории. Получают за это определённое положение, деньги и всячески продвигают подобного рода повестки на территорию искусства. Это всё очень грамотно обставляется. Для меня вот это пошло! Пошло по отношению к искусству. А пошлость всегда разрушительна.
- А если они так думают и чувствуют?
- В большинстве своём они так не чувствуют и не думают, они себя убедили в том, что они так думают. И это видно. В искусстве можно заблуждаться. Мы все заблуждаемся. Вопрос в том, как мы заблуждаемся? Это наша боль, это наше сердце говорит нам, или это говорит желание тщеславия, гордыня, желание попасть на какую-то волну? Это большая разница. Но почему-то сегодня чаще такое происходит – и не важно сердце человека, не важно, врёт он или не врёт. А важно то, берёт он эту повестку или не берёт. Это модно.

- Как вы думаете, худсовет нужен?
- В театре? Вы знаете, я, будучи по убеждениям монархистом, не сторонник общественных советов как таковых. Но как институт художественного руководителя он может существовать для официального и грамотного оформления каких-то рабочих вопросов: касающихся репертуарной политики и прочего. Ко мне в кабинет всегда может прийти человек со своими вопросами. Но есть вопросы, которые нужно оформить на юридическом уровне, поэтому для данного этапа наличие худсовета – лучшее решение. Единоличное мнение руководителя может оспариваться, а решение худсовета, подкреплённое официально другими подписями, оспорить нельзя. Вы спросите: «Значит ли это, что мнение худрука довлеет при принятии решений?» Безусловно. Но иначе будет «лебедь, щука и рак».
- А если помимо таких внутрикорпоративных моментов будут затронуты художественные? Вас не смутит, что худсовет позволит себе «залезть» в ваше метафизическое?
- Ну нет, худсовет – это не момент обсуждения каких-то творческих решений. Это обсуждение оформления творческих решений. Потому что внутри творчества ничего не запрещено. И ко мне можно подойти и сказать: «Слушай, дай мне попробовать, я считаю, что ты здесь не прав». Это нормально, мне можно предложить другой вариант. И в таком случае я тоже должен найти аргументы, чтобы либо отстоять своё мнение, либо иметь честность и мужество сказать: «Старик, ты придумал лучше». Я всегда рад, когда артист предложит что-то лучше, чем то, что предлагал я.
- Скоро Новый год. Как будете отмечать? У вас есть какие-то традиции?
- Во-первых, у нас есть большая новогодняя кампания, большая программа, два спектакля – здесь и на выездах, поскольку не все школы и дворцы могут сюда приезжать. Это и поездка по области с новогодним спектаклем. Это для детей большая новогодняя программа с утренниками и традиционными поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. А по окончании новогодней кампании мы с ребятами собираемся и делаем наш новогодний вечер с капустником, с внутренними шутками и так далее.

- Есть ли какой-то обязательный ритуал перед спектаклем?
- Мы всегда держимся за руки перед спектаклем. Для нас это очень важно. Ни один спектакль не начнём, не подержавшись за руки, не пожелав друг другу удачи.
- Ваши творческие планы и мечты на будущий год?
- Сейчас всё обращено к премьере. Все мысли только о ней.
Премьера спектакля «Сердце не камень» по пьесе Александра Островского на сцене Нового художественного театра состоится 8 и 9 декабря. Это комедия из позднего периода творчества Островского, когда, по словам режиссёра Евгения Гельфонда, писателя стали интересовать глубинные и тонкие духовные связи между людьми, то главное, что лежит в области сердца, движений души. Жанр спектакля обозначен как «Комедия в тридцати двух сценах с одним антрактом». Сопровождать действие будет специально написанная музыка. Её сочинил композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков. Исполняться музыкальные номера будут вживую, артисты НХТ играют на музыкальных инструментах и поют. В спектакле занята почти вся труппа театра. В основных ролях ведущие артисты: Ксения Бойко, Александр Майер, Татьяна Кельман, Дмитрий Николенко, Константин Талан, Наталья Шолохова, Павел Мохнаткин, Евгения Зензина, Александр Балицкий.
Читайте также
Александр Майер: «Самая красивая девушка достается мужчине, который побеждает»
| Поделиться: |
Дата изменения: 09 декабря, 2022 [09:31]