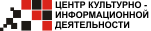Импрессионистская категория припоминаемого ощущения как формальное и концептуальное ядро лиро-эпического цикла М. Барсукова «Жестокие рассказы»
Н.Н. Кундаева
В русской прозе 1920-30 гг. XX века одним из самых продуктивных жанров становится лирический цикл, который фиксирует целый спектр внутренних переживаний личности, позволяет изобразить целостную картину внутренней жизни через фиксацию точечных состояний субъекта, через нанизывание отдельных деталей, событий. Все это обусловливает то, что в таком цикле на первом плане оказывается лирическое содержание, а потому вступают в силу законы лирического выражения.
Актуализация лирического цикла, как и в целом феномена лирической прозы, связана с расцветом импрессионистской тенденции, основным эстетическим принципом которой является отражение мира как субъективного впечатления человека, передача настроения, вызванного реальной действительностью. Исходя из этого, импрессионизм характеризуется субъективным освоением мира. По мнению Т. Мартышкиной, «постижение жизни, согласно импрессионистской модели, зависит от особенностей процессов ощущения и восприятия»1.
Действительно, реальный, вещный, чувственно воспринимаемый мир, превращаясь в поток ощущений, становится источником впечатлений, которые вызывают переживания субъекта и способствуют познанию жизни. Таким образом, в эстетике импрессионизма категория непосредственного, инстинктивного ощущения является принципиальной.
Ярким примером «сверхжанрового единства, основанного на «подражании» закономерностям поэтической циклизации»2, является лиро-эпический цикл М. Барсукова «Жестокие рассказы» (1930), концептуальным и формальным ядром которого становится импрессионистская категория ощущения.
Четыре рассказа, составляющие художественное единство, представляют мозаику впечатлений ребенка от общения с окружающим миром, с прозаической и подчас жестокой действительностью.
В рассказах изображаются на первый взгляд бессвязные, случайные события из жизни маленького человека: встреча с воображаемой Бабой-Ягой, борьба с курицей, наказание за невыученный урок и др. На самом деле каждый из описанных эпизодов является уникальным детским опытом, развивающим представления о добре и зле, о любви и ненависти, о жестокости и милосердии, о жизни и смерти. Барсуков показывает процесс формирования личности, путь познания мира, переход от стихийного отношения к жизни к осознанному. Автор фиксирует моменты наивысшего накала чувств, мгновения напряженного эмоционального состояния, вызванного ощущением тревоги, ужаса от соприкосновения ребенка с таинственным, непонятным и враждебным миром. Неслучайно все рассказы имеют сходную композиционную структуру. Определяющим в них является принцип симфонизма, связанный с передачей непрерывного нарастания психологического напряжения, высшей точкой которого становится ощущение надрыва. В каждом из рассказов такой момент обозначен с помощью слова «вдруг», к которому примыкают слова «не выдержал», «заплакал», «закричал», передающие накал чувств. Кроме того, данная особенность отражается на структуре текста. Парцеллированность, инверсированность, версейность – качества, способствующие выражению пульсирующего сознания ребенка и объединяющие все рассказы.
Детский страх, обида, бессилие, «беспомощность перед покоряющей силой» мира становятся доминирующими чувствами, пронизывающими эмоциональное пространство, создающими интонацию надрыва и связывающими текст в единое целое. Ключ к пониманию идейно-эстетического содержания цикла дает заглавие. «Жестокие рассказы» раскрывают трепетный, ранимый мир детской души, в которой страх пробуждает страдание, «непонятную страсть» и даже жестокость. Рассказы объединяются пунктирной, отрывистой мелодией души ребенка, познающего мир. Заглавие каждого из рассказов цикла («Бабя-Яга», «Курица», «Отец», «Люси») соотносится с объектом, вызывающим у главного героя ощущение страха, и раскрывает систему взаимоотношений маленького человека с миром и обществом.
Интересно, что детские впечатления даны сквозь призму сознания взрослого человека. Главный герой вспоминает события, которые вызвали когда-то противоречивый поток эмоций, чувств и навсегда оставили отпечаток в сердце. Барсуков использует «технику ретроспекций, связанную с развитием мотива памяти, когда воссоздается развернутая цепь припоминаемых ощущений, настроений»3. Предметом изображения в цикле становится не реальность, а воспринимающее, «припоминающее» сознание. По мнению М.М. Голубкова, «подмена объективного, причинно-следственного восприятия мира впечатлением, основанным на некоем подсознательном механизме припоминания, и составляет суть прозы импрессионистов»4. Это позволяет говорить о действии механизма спонтанной памяти (термин Бергсона), которая пробуждает бессознательные воспоминания.
Ассоциативными толчками, позволяющими герою заново пережить прошлое, становятся явления объективного мира. Реальный образ старой женщины с перевязанным от мороза ртом, которую герой замечает в морозный вечер за окном, воскрешает в памяти детские ощущения, когда та же фигура рождала в воображении мальчика образ Бабы-Яги (сгорбленной старухи с высокой клюкой), а мир за окном, понятный и узнаваемый для взрослого, воспринимался как сказочный и фантастический. Именно этим воспоминаниям посвящен первый рассказ «Баба-Яга», который задает тон всему повествованию.
Мир дома, уюта, тепла, мир, в котором «спокойствие разговаривает с сердцем» перестает интересовать ребенка, все внимание которого устремлено к миру за окном. «Я стерегу у окна свои сказки», «Я весь в окне», - повторяет маленький Миша. «Очарование тайной», ожидание чуда передается через природные зарисовки, с которых начинается повествование: «Звенит лед на речке. Звенят фарфоровые деревья, хрупкие от инея. Синие сумерки заливают окрестность. Она сквозит меж заборов и пустырей, встает на склонах холмов…Синие сумерки темнеют. И навстречу ночи, прокладывая лапы меж холмов, тихо плывет луна»5. Нарочитая размытость фона, мерцающие оттенки, игра света и тени напоминают полотна импрессионистов. Все изображение словно погружено в дымку, становится сказочным, таинственным. Автор создает импрессионистский «пейзаж души», в котором герой растворяет свое настроение и самого себя, скрываясь за пестрой картиной собственных ощущений тайны, опасности.
Настороженность, эмоциональная чуткость выражаются в комплексе физических ощущений, в обостренном восприятии окружающего. Неслучайно герой неоднократно повторяет фразы, по сути раскрывающие способ импрессионистского познания мира: «Я вижу», «Я слышу», «Я чувствую». Таинственный мир в восприятии ребенка окрашивается в черные тона: «на снегу горит черная тень», «фигура тянет меня как черный сток воды у водопада», «черной падью встают передо мной ворота», «я чувствую, как сгущается вокруг меня темнота», что способствует выражению тревоги, смятения. Эмоционально-суггестивный эффект достигается звуковой инструментовкой, которая, включая слова со смыслообразующими аллитерациями (повторами шипящих и свистящих звуков), создает ощущение опасности: «я слышу, как трескается скрипучая, мерзлая земля», «Я слышу, как пролетела над нами, шурша по индиговому шелку воздуха, - галочья стая».
Мальчик воспринимает встречу со старухой – Бабой-Ягой как борьбу с темным, злым началом. Оцепенение сменяется нарастающим «несуразным детским буйством». Все мысли ребенка связаны с этим сказочным персонажем: «Баба-яга…баба-яга» - стучит у меня в голове, опустошенной и гулкой6. Герой, охваченный страхом, пытается уличить старуху в ее зле и настойчиво повторяет: «Баба-Яга». Растущее эмоциональное напряжение, усиливающееся смятение, вызванные боязнью жестокой Бабы-Яги, которая якобы бьет костылем маленьких детей, передаются с помощью интонационной градации:
- Вы…кто? – спросил я хрустящим шепотом.
- Баба-яга! – сказал я громче.
- Ты-баба…- сказал я полным голосом, звенящим в тишине, среди упавшего снега.
Внутреннее напряжение находит физическое проявление:
- Баба-Яга – настойчиво повторил я, вздрогнув всем телом.
- Ты иди – ответил я, сжимая кулаченки и хватаясь рукой за изгородь7.
Это приводит героя к истерическому плачу без слез как реакции на жестокость со стороны Бабы-Яги, впоследствии к «несуразному буйству» как попытке защитить себя и стихийной жестокости по отношению к женщине: «Я перекосился весь, протянул руку к старухе, ухватил ее за черный сальный жилет и с силой дернул к себе». Буйство, неистовство, страх исчезают в тот момент, когда герой почувствовал теплую мамину руку, вернулся в привычный, знакомый, родной мир.
Непонятная страсть, бессознательное чувство жестокости овладевают пятилетним мальчиком в борьбе с курицей в следующем рассказе. Автор показывает, как ребенок, беснуемый живучестью курицы, с азартом из интереса убивает ее: «Я тискал и давил жизнь детскими речонками, потому что сам был живым существом»8. В миг героем овладевает стихийное чувство жестокости, он бросает курицу об угол несколько раз, не понимая, что причиняет боль живому существу. Героя забавляет, как птица борется за свое существование. Миша как будто играет с жизнью, не задумываясь, к каким последствиям могут привести подобные жестокие игры. Лишь в тот момент, когда герой почувствовал в руках «мертвое, вязкое тело», ребенок испытал страх смерти, страх, вызванный собственной жестокостью. С тех пор жестокость и смерть в сознании ребенка обретают неразрывную связь. Происходит своеобразное знакомство со смертью, которое меняет восприятие мира. Неслучайно герой остро ощущает пустую тишину, видит в небе одинокого ястреба, интуитивно чувствует невосполнимую утрату и свою вину.
Мотив смерти приобретает особое звучание в рассказе «Отец», ощущение «дикого страха» вызывает глава семьи, который знакомит сына с «трезвой правдой жизни». В восприятии мальчика отец становится воплощением страшной нечеловеческой силы, которая выражается через психологически значимые детали портрета: «выцветшие, жесткие глаза, в которых и зло, и слезы кипят с одной силой», «горящий взгляд холодных глаз, иссохших и тугих»9. Отцовский гнев воспринимается как истязание над трепетным и ранимым миром ребенка, как кошмар, который приносит неимоверные страдания. Впервые испытать отцовски гнев пришлось герою в семилетнем возрасте, когда мальчик был наказан за невыученный урок. Для ребенка это стало душевным потрясением, которое привело к состоянию надрыва: «Страдание разворачивало мою душу, я чувствовал, что с корнями вытягивал из меня отец, как сорную траву, глубокие радости, жившие во мне, вытягивал и бросал о земь сладкие стебли жизни».
Пульсирующее сознание ребенка, надлом, вызванный переживанием страха, ужаса, бессилия, выражается в структуре текста, в особой парцеллированности, в версейной организации, когда абзац представляет собой одно-два предложения:
Я был предан отцу до смерти и детский мой сон волновали кошмары: я боялся смерти отца.
И поэтому не обидой, а диким страхом грозил мне отцовский гнев.
Отец бил нас.
Мне было семь лет, когда это случилось впервые10.
Лексический повтор слова отец не случаен. Автор намеренно не заменяет слово синонимами, подчеркивая значимость фигуры отца, выражая тревогу, напряжение, страх ребенка. Автор, знаток детской психологии, в этом случае обращает внимание на то, как происходит развитие рефлексивных способностей ребенка. Внутренняя тяжесть, отчаяние от осознания бессилия, чувство ненависти приводят мальчика к мыслям о смерти. Он представляет себя мертвым, вспоминает обреченную и неслышную Еву из «Хижины дяди Тома», чувствует свою близость с ней. Мотив смерти сопрягается с мотивом темноты и холода. К жизни возвращает жар натопленных комнат и домовитый запах крашеной печки, ощущаемые героем после примирения с отцом, олицетворяющие нечто привычное, родное, безопасное.
В последней миниатюре Барсуков раскрывает сложные взаимоотношения уже девятилетнего Миши и его брата Саши со сверстником Люси, сыном фабриканта. Мир, в котором живет Люси (трехэтажный белый дом за чугунной оградой), кажется Мише таинственным, непостижимым, волнующим, ассоциируется с мрачным сказочным замком. Ощущение тайны проходит, как только между мальчиками возникает конфликт. В ответ на обидный выкрик Люси: «Босые дураки!» главный герой произносит жестокие слова: «Люси, Люси! На-ко укуси!». По настоянию отца Миша должен извиниться за такое поведение. Барсуков вновь показывает напряженный момент в жизни ребенка. Мальчик не осознает своей вины, им движет желание отомстить врагу. Ненависть приводит к безжалостности, жестокости. В самый ответственный момент герой вместо слов извинения жарким надтреснутым голосом кричит: «Люси, Люси! На-ко укуси!».
Итак, настроение лирического героя как ключевая импрессионистская категория, структурирующая цикл Шмелева, выражается за счет введения образов-ощущений, образов-переживаний, приобретающих символическое значение, усиливающих ассоциативный фон. Мысленное возвращение героя к потерянной святой России способствует обретению веры, помогает выйти из мучительного духовного кризиса, преодолеть ситуацию бездомья, понять тайну бытия.
Ссылки в тексте:
1 Мартышкина Т.Н. Импрессионистическое мировоззрение в западноевропейской культуре века: истоки, сущность и значение: автореферат дисс. …к. культурологии. – Нижневартовск, 2008.
2 Пономарева, Е.В. Стратегия художественного синтеза в русской новеллистике 1920-х годов. Монография. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2006.
3 Пономарева, Е.В. Стратегия художественного синтеза в русской новеллистике 1920-х годов. Монография. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2006.
4 Голубков М.М. Русская литература XX века: После раскола: Уч.пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.
5 Российская новеллистика 20-х годов: антология жанра / Сост. Е.В. Пономарева. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2005. – С.54.
6 Там же. …С.55.
7 Российская новеллистика 20-х годов: антология жанра / Сост. Е.В. Пономарева. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2005. – С.56.
8 Там же. …С.57
9 Там же. …С.58
10 Российская новеллистика 20-х годов: антология жанра / Сост. Е.В. Пономарева. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2005. – С.58.
Полная версия статьи опубликована в сборнике // Литература как прецедент: сборник научных работ. – М.: Экон-информ, 2010. – С. 146–153.
| Поделиться: |
Дата публикации: 11 декабря, 2017 [15:12]
Дата изменения: 11 декабря, 2017 [15:19]
Дата изменения: 11 декабря, 2017 [15:19]








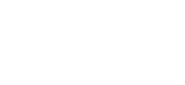











 Фотогалерея
Фотогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Афиша
Афиша Общественное обсуждение
Общественное обсуждение Контакты
Контакты Карта районов Челябинска
Карта районов Челябинска