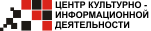(на материале цикла А. Веселого «Домыслы»)
Н.Н. Кундаева
На материале цикла А. Веселого рассматриваются особенности воплощения импрессионистского мирообраза в структуре синтетического образования, раскрывается концептуальное значение элементов импрессионистской парадигмы в соотношении с эстетическими возможностями экспрессионизма, вскрываются механизмы взаимодействия двух модернистских тенденций в рамках художественного единства, исследуется уникальная авторская модель, призванная отразить сложные отношения человека и мира в начале XX в.
Малая проза 1920-х гг. XX в. представлена уникальными авторскими моделями, оригинальными художественными образцами, сложившимися в результате синтеза элементов классической и модернистской систем в целях наиболее адекватного выражения сознания человека начала XX в. Одной из модернистских тенденций, участвующих в конструировании синтетической модели мира, становится импрессионизм, связанный с выражением лирического миросозерцания. Данное явление в русской литературе не было последовательным, системным и программным. Обращение писателей к импрессионистской парадигме зачастую объяснялось экстралитературными факторами.
Импрессионизм предлагал выход из кризисного, тупикового состояния, в которое погрузился человек, живущий в эпоху трагических противоречий, социальных катаклизмов. Он стал «попыткой восстановить нарушенное равновесие и гармонию» [4, с. 23], поскольку воспевал прежние, традиционные ценности, провозглашал «философию радости жизни» [4, с. 21]. «Эстетизация окружающего мира, обыденных фрагментов бытия» [4, с. 10], «утверждение красоты в незаметном» [4, с. 17], ценности каждого жизненного мгновения, единства человека и природы – идеи, лежащие в основе оптимистической концепции импрессионизма и отличающие его от других модернистских тенденций. Жизнеутверждающий пафос импрессионизма привлекал многих художников слова, пытающихся преодолеть хаос жизни, восстановить духовные ценности прошлого.
В чистом варианте данная тенденция в русской литературе не была представлена, она взаимодействовала с классической традицией романтизма (А. Неверов «Радушка. Маленькие рассказы», Е. Гуро «Небесные верблюжата», «Бедный рыцарь»), реализма (И. Шмелев «Сидя на берегу», М. Осоргин «Там, где был счастлив», ранняя проза И. Бунина).
Оригинальная синтетическая модель создана Артемом Веселым (Николаем Кочкуровым) в цикле «Домыслы», в рамках которого соединяются элементы импрессионистской и экспрессионистской поэтики, проявляющиеся на уровне использования отдельных приемов и принципов.
«Домыслы» представляют собой лирические размышления героя, вызванные осмыслением эпохи исторического слома и приобретающие глубокое философское звучание. Авторская жанровая номинация, выраженная в названии цикла, сообщает тексту некую интонационную заданность, погружает в сферу субъективных ощущений героя, его переживаний. Предметом изображения становится воспринимающее сознание, что способствует ослаблению фабульного начала, которое компенсируется мощной изобразительно-ритмической, интонационно-речевой стихией, влияющей на создание «полифонического типа текста, балансирующего на грани изобразительного и выразительного, прозаического и лирического» [5, с. 219].
Художественное единство включает три миниатюры («Тюрьма», 1927, «Сова», 1926, «Сад», 1929), созданные в разное время, расположенные не в хронологическом порядке, а в соответствии с развитием авторской мысли. В название каждой миниатюры вынесен ключевой образ-символ, формирующий смысловое и эмоциональное пространство текста, особый ассоциативный фон.
В первых двух миниатюрах передается ощущение трагизма бытия, непреодолимого разлада с миром, дается эмоциональная оценка действительности как жестокой, бесчеловечной. Таким образом, выражается трагедийный пафос, свойственный эстетике экспрессионизма. В первой миниатюре звучит неистовый крик души человека, остро ощущающего страшную силу тюрьмы, убивающей волю, порождающей измену, преступление, ведущей к смерти. Тюрьма становится знаком противоречивой послереволюционной эпохи, символом хаоса и смерти, отражением деформированного, дисгармоничного мира, в котором подавляется личностное начало. Признаком такого мира становятся «тусклые лица», «стертые и похожие на жестяные кружки» [1, с. 246]. Картина наполнена кричащими, диссонирующими звуками, выражающими напряженное состояние человека, из последних сил пытающегося противостоять разрушительной силе. Создается безжизненное пространство, «где не слышно детского лепета и смеха», «где кисть маляра ослепляет нацарапанные по стенам стоны», «где песнь страшнее плача» [1, с. 245], «где ночи полны дурных снов и зубного скрежета», «где царит безмолвие» [1, с. 246]. Звуковая система выстраивается по принципу контраста (пронзительный, сильный, нечеловеческий звук – мертвенная тишина), свойственному экспрессионизму. Мотив безжизненности, бесчеловечности, пронизывающий весь текст, выражается и с помощью повтора слов «железо», «камень» и производных от них: «сердца каменеют», «живые мускулы вплетены в железо», «страдания замурованы в немой камень» (Там же). Все это способствует выражению подавленного, удрученного состояния человека.
Миниатюра имеет особую графическую композицию, которая становится ритмо- и смыслообразующим фактором. Текст состоит из трех одинаково построенных частей, визуально отделенных друг от друга отступами. Каждый фрагмент отличается четкой строфической организацией, характерной для версе. Первая строка двух абзацев включает одно слово – тюрьма, последующие начинаются с союза где и представляют собой цепь придаточных предложений, не отделенных друг от друга знаками препинания:
Тюрьма…
где глаза людей выжжены печалью
где во тьме тоски ревущей сердца каменеют
где железо властвует над человеком
где могучие воли и бесстрашные умы обречены на умирание
<…> [1, с. 245]
Тюрьма…
где любовник не обнимает любовницу
где живые мускулы вплетены в железо и зацементированы
<…> [1, с. 246]
Анафорическая структура (акцент на характеристике угрожающего жизни мира), отсутствие пунктуационных знаков (за исключением многоточия в первой строке, создающего паузу напряжения), особое графическое решение способствуют созданию ритма, с помощью которого автор выражает ощущение надрыва, обреченности, безысходности человека, лишенного свободы и помещенного в замкнутое пространство тюрьмы, которая ассоциируется с «тьмой, горем, ямой и петлей» (Там же). Создается своего рода порочный круг, из которого вырваться человеку практически невозможно. Третий фрагмент начинается с включения контекстуального синонимического ряда, создающего емкий экспрессионистский образ тюрьмы, являющейся символом несвободы и смерти:
Тюрьма, тюрьма… крепость тиранов твердыня земных владык дом задушенных рыданий
могила для живых [1, с. 246].
Образ могилы, ямы, тюрьмы заключает в себе метафорический смысл самой реальности, враждебной человеку.
В последних строках интонация надрыва усиливается, поскольку в них выражается гневный протест героя против уродливой, искажающей нормальное человеческое существование силы:
когда над миром загремят ликующие грозы и взовьется знамя мятежа –
на тебя, тюрьма, будет обрушен наш яростный вой и первый сокрушающий удар [1, с. 247].
Таким образом, в миниатюре «Тюрьма» А. Веселый, используя приемы экспрессионистской поэтики, показывает трагедию человека и общества, обусловленную кошмаром и ужасом исторических обстоятельств, раскрывает конфликт личности и вопиющей действительности.
Далее А. Веселый развивает экспрессионистскую идею о том, что в таком «античеловечно устроенном мире человеку уготована смерть, болезни, психический слом» [5, с. 156], что становится предметом изображения во второй миниатюре «Сова», где писатель обращается к интимной сфере человеческой жизни, раскрывает трагедию любви, которая приводит к духовной драме. Напряженная интонация задана первой строкой:
Любовная гимнастика. Палка и барабан [1, с. 248].
Ассоциативно возникающий звук барабанной дроби наполняет пространство миниатюры, выражает предельное, кризисное состояние героев, которые «опротивели друг другу» (Там же) и находятся на грани срыва. Болезненное, нервное сознание воплощается в довольно объемном фрагменте текста, имеющем анафорическую структуру (24 строки начинаются союзом когда), создающую «ударный» ритм, который выражает пульсирующую мысль. Визуально-графическое оформление данного фрагмента имеет важное концептуальное значение. Выстраивается цепь придаточных предложений, каждое из которых начинается с новой строки. Если предложение не укладывается в типографскую строку, то его часть переносится на другую и при этом смещается вправо. Таким образом, за счет использования приемов графического и синтаксического параллелизма создается довольно однородная структура, в которой выделяется слово «когда»:
Когда оба опротивели друг другу, но продолжают
вести нечистую игру
когда нет бреда и ненасытного сплеска
когда все тайное стало явным и запретное законным
когда шуточка не шутится и раздражение неотступно следует за ними.
<…> [1, с. 248]
Так, с помощью визуально-графических средств создается эффект монотонной цикличности, рутинности надоевшей жизни, которая вызывает раздражение. Нарушение законов пунктуации способствует созданию особого «сбивчиво расшатанного ритма» [5, с. 228], передающего взвинченное, взволнованное состояние героев. Хаотично расставленные знаки препинания маркируют паузы, насыщенные интонацией надрыва. Нарушение границ предложения, дробное членение текста, фрагментарный стиль придают речи интонационную экспрессию за счет отрывистого произнесения фразы.
Представленный фрагмент насыщен экспрессивными физиологическими деталями, выражающими опошленность, пресыщенность, грубость, низость жизни когда-то любивших друг друга людей:
когда поцелуи являются слепой формальностью и наслаждение уходит вниз ожиревших животов.
когда оба сидят друг против друга, как два
больных зуба [1, с. 248]
Отвисшая губа. Глаза заплывшие скукой
когда оба напоминают двух обожравшихся и продолжающих сидеть за столом [1, с. 249]
Нанизывание однотипных эмоционально-экспрессивных конструкций способствует ускорению ритма, нагнетанию напряжения, на пике которого происходит резкая интонационная, ритмическая перебивка, выраженная с помощью тире:
<…>
когда в супружеской постели бывает так скучно, что в пору гармонистов и песенников под кровать сажать –
Огонь и искра, солнце и свет [1, с. 249].
Финальная строка данного фрагмента миниатюры становится своеобразным эмоциональным аккордом. Она включает ряд образов, которые создают контраст предшествующему повествованию, раскрывающему нудное, серое, опостылевшее существование героев. Огонь, солнце символизируют жизненную энергию, которая на мгновение врывается в дисгармоничный, обособленный мир, где «сердце задыхается и гаснет» (Там же). Яркий свет становится отголоском настоящей счастливой жизни, которая проходит мимо героев, утративших способность любить, погрязших в низости, лицемерии, цинизме. Итак, фрагмент построен по принципу монтажа, основанному на соединении элементов с противоположной эмоциональной содержательностью, позволяющему выразить трагическое противоречие человеческого существования.
Следующий композиционный блок представляет драматическую микросцену, связанную с изображением героев, помещенных в конкретные пространственно-временные рамки. Один вечер в вагоне поезда становится проекцией на всю супружескую жизнь. Причем автор акцентирует внимание на затравленном сознании мужа, который, сталкиваясь в лице жены с пошлостью и равнодушием, пытается покончить с собой. В рамках данного эпизода контрастно сходятся два мира и два типа их восприятия: гармоничный мир природы, представленный поэтически окрашенными образами («златоглазое солнце», «сияние звезд», «прохлада весеннего вечера», «блещущие верной красотой розы»), становящимися символом свободы, счастья, и мир пошлой реальности, в котором искажаются представления о любви и красоте, все высокое становится тривиальным, вульгарным:
Мы будем верны друг другу до гробовой
доски – широко разевая рот, сказала она [1, с. 250].
Герой балансирует между двумя полюсами, сблизить которые невозможно. Он чувствует безысходность своего положения. Воспринимая жену «как досадный пейзаж, от которого ни уйти, ни уехать» (Там же), он все же пытается восстановить разрушенную гармонию (на станции покупает большой букет роз, чтобы наполнить жизнь красотой, пробудить былые чувства). Но этот шаг приводит его к страшному потрясению. Жена смотрит на розы, «как сова на молнию» (Там же), то есть равнодушно и безразлично. Образ совы приобретает важное концептуальное значение. Он становится символом внутренней пустоты, духовной глухоты и смерти, на что обречены люди, представшие перед лицом хаоса. А. Веселый вводит важную портретную деталь, создавая образ своего героя. «Тощая серая слеза на дряблой щеке» (Там же) становится симптомом страдающего человека, не сумевшего побороть обстоятельства, перейти границы кромешного мира, а «обрывок веревки на его шее» [1, с. 251] – приговором жизни.
Финальный выразительный экспрессионистский образ («розы ржали»), основанный на кричащем контрасте красоты и уродства, возвышенного и тривиального, выражает деформированное сознание человека, обессилевшего от понимания тщетности усилий, направленных на осмысление этого бездушного, непропорционально устроенного мира, в котором подавляется все естественное.
Автор усиливает драматический эффект сцены за счет использования специфических визуально-графических средств, акцентирующих ритмико-интонационную составляющую текста.
Фрагмент делится на синтаксически завершенные абзацы, состоящие из трех–четырех строк, составляющих одно предложение, что свидетельствует о версейной организации. Вместе с тем встречается несколько случаев, в которых синтаксический и ритмический ряды не совпадают:
Он отвернулся, тощая серая слеза выползла на его дряблую щеку,
и еще что-то говорила она: он забывал ее слова раньше чем эхо этих слов умирало в углах купе.
<…>
Она рано улеглась спать,
на станции он вышел. Сияние звезд и прохлада весеннего вечера немного успокоили его [1, с. 250].
Используя аналог стихового переноса, А. Веселый драматизирует текст. Синтаксический разрыв фразы способствует выражению трагической отчужденности героев, их безразличия и равнодушия по отношению друг к другу. Ощущение тотальной разобщенности, одиночества приводит к психологическому слому, чувству духовной опустошенности, к развитию болезненного сознания человека. Неслучайно после тщетных попыток изменить что-либо героя влечет «необузданный разврат» [1, с. 251], им овладевает ненависть к жизни. Таким образом, в первой миниатюре автор показывает дисгармоничный, осколочный мир, деформирующий сознание личности, вскрывает механизмы, влияющие на развитие болезненного состояния. Вторая миниатюра демонстрирует драму человека, столкнувшегося с этими враждебными обстоятельствами, безрезультатно пытающегося преодолеть разлад бытия и усугубляющего таким образом свое положение.
А. Веселый, стремясь передать алогизм и абсурдность исторических событий 1920-х гг., обращается к эстетике экспрессионизма и создает образ мира, лишенный гармонии и целостности.
Важно, что экспрессионистская парадигма в цикле не является приоритетной, она взаимодействует с оппозиционной ей импрессионистской системой, что позволяет говорить о создании уникального синтетического мирообраза, в котором утверждается идея апологии жизни, мысль о том, что
«жизнь требует жизни, независимо от условий, в которые попадает человек — “раздробленные”, “разорванные” обрывки действительности» [5, с. 139].
В связи с этим в структуре цикла концептуально выделяется третья миниатюра «Сад», которая по настроению, по характеру образов, интонационно-речевой фактуре контрастна предшествующему повествованию. Она пронизана эмоционально-лирической стихией, «всепоглощающим чувством единства жизненного потока, поэтического дыхания действительности» [4, с. 22], что позволяет говорить о воплощении импрессионистского мирообраза в структуре прозаического текста. Миниатюра отличается особым типом эмоциональности, лиризмом, который связан, по мнению В.Е. Хализева, «с запечатлением всего позитивно значимого и обладающего ценностью» для человека [2, с. 71]. А. Веселый создает многогранную картину совершенного мира. Не случайно в название вынесен концептуально значимый образ сада, являющийся символом Космоса, упорядоченной Вселенной, в которой человек находится в гармонии с окружающим миром.
Если в первых двух миниатюрах автор, погружая героя в замкнутое пространство (тюрьма – «могила для живых» [1, с. 246], вагон, за окном которого «крутой ветер и златоглазое солнце» [1, с. 250]), показывает отчужденность человека от мира, его разлад с окружающей действительностью и невозможность примирения с «живой жизнью», то в миниатюре «Сад» А. Веселый воплощает пантеистическую концепцию, согласно которой душа растворяется в природе, образуя единое состояние. Происходит стирание границ между субъективным и объективным мирами, что способствует созданию импрессионистского пейзажа души. Через образы природы автор воссоздает трепетный внутренний мир человека, передает неуловимое, зыбкое, эфемерное – состояние души. Как отмечал И. Сапего, «у импрессионистов природа становится сферой жизни нашего повседневного состояния, нашего настроения» [6, с. 60]. Для создания лирической экспрессии, ощущения единства бытия автор активно использует олицетворения, метафоры, сравнения, выражающие импрессионистское двуединство внешнего и внутреннего, природного и человеческого миров:
Георгины и астры ведут хоровод. Маки стоят, как именинники.
Кактус, подставляя зеленые ладони, ловит светлые брызги, долетающие из фонтана. Лапы пальм трепещут, будто ресницы взволнованной красавицы.
Цветы, словно в молитве, склоняют головы [1, с. 252].
Создавая импрессионистскую неуловимо подвижную картину природы, фиксируя едва схваченные, случайные фрагменты действительности, А. Веселый передает изменчивость мира, многообразие и цикличность бытия. Писатель, как и художники-импрессионисты, «делая случайность художественным принципом, строит картину как кусок жизни, застигнутый на лету» [4, с. 18]. Такое видение мира определяет специфику композиции произведения, особую технику письма. Автор использует прием «стоп-кадра», передавая мир во всей его полноте. Обусловленная этим фрагментарность, характерная для модернистских текстов в целом, в данном случае способствует воспроизведению «отдельных схваченных впечатлений» [5, с. 154], подобных импрессионистским мазкам, в то время как в экспрессионизме этот принцип позволяет выразить «резкий выкрик» (Там же), воплотить диссонирующую, дисгармоничную действительность. Стоит отметить, что техника мазков составляет «конструктивную основу поэтики импрессионизма, стремящегося выразить форму передачей красочного мироощущения, предлагающего технику широко наложенных красок, в совершенстве передающую жизнь» [3, с. 197].
Данная миниатюра, как и предшествующие, имеет строфическую композицию. Абзацы состоят из одного–двух предложений и укладываются в две–три типографские строки. Но если в первых двух миниатюрах с помощью версейной организации А. Веселый воплощает однообразное, замкнутое бытие, в котором человек находится в тупиковом, безвыходном положении, то в третьей миниатюре строфическая структура позволяет передать изменчивость мира, тончайшие движения души человека, так называемое импрессионистское мерцание, которое находит отражение в волнообразном ритмическом рисунке, лишенном надрыва и резкости. В отличие от первых миниатюр, в которых воплощен экспрессионистский мирообраз, в миниатюре «Сад» отсутствует нарушение законов пунктуации. Эта особенность влияет на создание размеренного, спокойного ритма, приобретающего лирико-медитативный характер.
А. Веселый изображает трепетный, воздушный мир, словно погруженный в дымку. Используя технику полутонов, писатель создает эфемерную атмосферу, способную зафиксировать переливы человеческой души, выразить невыразимое. Это определяет особенности словесной фактуры. Автор использует слова, семантически выражающие импрессионистское мерцание: «сияют ландыши», «лапы пальм трепещут», «дрожат листья», «переливы листвы», «струи потока», «сверкает роза» [1, с. 252, 253]. Писатель обращается к особому языку ощущений, достигая предельного сенсуализма и передавая динамику эмоциональных состояний лирического героя (от лирической взволнованности, восторга к светлой грусти). Автор использует широкий круг речевых средств, воссоздающих разные проявления чувственного восприятия: фиксация оттенков цветов («серая заря», «листья в зеленом пуху», «голубой лотос», «зеленые тени» [1, с. 252, 253]), взаимодействие динамичных звуковых, световых и обонятельных характеристик. Едва слышимые звуки («потрескивая, лопались почки» [1, с. 252]) постоянно дополняются звонкими («взволнованный птичий щебет» [1, с. 252]), которые к концу миниатюры сменяются тишиной. Динамичны световые и цветовые образы. Зыбкая трепетность, мерцание световоздушной среды в начале миниатюры насыщается «дивным светом» солнца, палитра становится более яркой. Об этом свидетельствуют отдельные, искусно созданные, синестетические образы: «в зелени плюща, как смех, сверкает вьющаяся гималайская роза» [1, с. 253], «по мураве разбросаны вытканные солнцем ковры» [1, с. 254]. Лучезарную картину в финале сменяет «слитный сумрак» (Там же). Такая подвижность цветовых, звуковых образов объясняется особенностями хронотопической структуры. А. Веселый описывает весеннее пробуждение природы. Это переходное состояние позволяет передать тревожно-весеннее ожидание счастья, ощущение радости жизни и ее полноты. Кроме того, в миниатюре зафиксировано движение суточного времени (утро – день – вечер – ночь), которое позволяет выделить в ней четыре композиционные части, что связано с раскрытием каждого неповторимого сиюсекундного состояния природы и с соотнесением его с этапами жизни человека (зарождение жизни – расцвет – угасание – сон / смерть). Вместе с тем автор увлекается процессом формирования человеческой мысли и постижения смысла существования. Пробуждение весеннего сада погружает лирического героя в состояние медитативного созерцания. Авторская сентенция («Сколько во всем непостижимой премудрости!» [1, с. 253]) свидетельствует о зарождении мысли, связанной с пониманием красоты мира, его богатства. Дальнейшие наблюдения позволяют герою выделить ряд оппозиций, раскрывающих антиномичность, диалектичность мира:
былинка, не дающая тени на солнце – мексиканский кипарис, имеющий пятнадцать метров в поперечнике
листья более мелкие, чем рыбья чешуя — мясистые листы виктории и др.
Многообразный мир растений становится проекцией на мир людей, противоречивый, неоднозначный, неоднородный, но вместе с тем единый и прекрасный. «В каждом листке отражается солнце, и дивным светом сквозит душа самой весны» [1, с. 254] – главный философский вывод, к которому приходит герой, утверждая красоту и ценность жизни во всех ее проявлениях.
Вечер вызывает у лирического героя печаль, связанную с созерцанием увядающей природы и нахлынувшими в связи с этим воспоминаниями о юности, любви. А. Веселый использует окказиональные слова, которые ассоциативно рождают образ женщины:
Аромашки, аромашки…<…>
Какая-то цветыня, коей я не знаю названия, раскачивается, точно танцовщица в медлительном танце [1, с. 254].
Включает необычные сравнения:
Тропические папоротники похожи на распущенные волосы красавиц, которых в наше время мало уже и осталось, они переводятся, как зубры [1, с. 255].
Пора юности миновала, но грусть, которую испытывает герой, светлая, она не окрашена в трагические тона. Свет этот дарит любовь к жизни, осознание ее ценности, открытие истинного смысла, которое приносит успокоение:
Зеленые тени, прохлада. Прозревшая мысль летит <…> В кустах слитный сумрак.
Тишина… Слышно дыхание пчелы, дремлющей на цветке [1, с. 255].
Замыкая таким образом круг, возвращая все в первоначальное состояние, автор обращает внимание на цикличность бытия, «вечное круговращение жизни» (Там же). Так, за счет активного использования элементов поэтики намеков, введения метафорических образов А. Веселый мгновенное, сиюминутное, конкретное размыкает в вечное, постоянное, неизменное, излагая философские воззрения на жизнь человека, в связи с чем миниатюра приобретает притчевый характер.
В целом, цикл «Домыслы» представляет уникальное синтетическое образование, в котором вступают во взаимодействие две модернистские тенденции. Несмотря на формальное единство (использование универсальных для модернизма приемов и принципов), цикл демонстрирует принципиальную разницу между экспрессионистским мирообразом, раскрывающим дисгармонию в отношениях человека с миром, и импрессионистским, создающим целостную картину бытия. Миниатюра «Сад» концептуальна в структуре цикла, в ней утверждается красота и ценность жизни во всем ее многообразии, значимость обретения человеком внутреннего равновесия и гармонии с внешним миром. Данные идеи и составляют сущность импрессионистской оптимистической концепции, предлагающей выход из пошлой, пустой, кромешной действительности, в которой оказался человек в начале XX в.
Список литературы:
1. Веселый А. Рассказы. М.: Моск. товарищество писателей, 1931. 260 с.
2. Геймбух Е.Ю. Поэтика жанра лирической прозаической миниатюры: лингвостилистический аспект: дис. … д-ра филол. наук. М., 2005. 401 с.
3. Голубков М.М. Русская литература XX века: после раскола: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 267 с.
4. Мартышкина Т.Н. Импрессионистическое мировоззрение в западноевропейской культуре века: истоки, сущность и значение: автореф. дис. … канд. культурологии. Нижневартовск, 2008. 27 с.
5. Пономарева Е.В. Стратегия художественного синтеза в русской новеллистике 1920-х годов: монография. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2006. 452 с.
6. Сапего И. Эстетические принципы импрессионизма // Искусство. 1974. № 5. С. 51-61.
| Поделиться: |
Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:01]








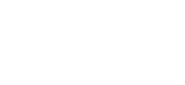











 Фотогалерея
Фотогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Афиша
Афиша Общественное обсуждение
Общественное обсуждение Контакты
Контакты Карта районов Челябинска
Карта районов Челябинска