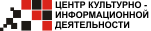Н.Н. Кундаева
В художественной практике русской литературы первой трети XX века одной из самых продуктивных оказалась импрессионистская тенденция. Импрессионистское стремление зафиксировать непостоянное, неуловимое приводит к актуализации поэтики незавершенности, к которой, по утверждению Т.Н. Мартышкиной, импрессионисты пришли сознательно, «ведь согласно их представлениям, произведение должно содержать лишь указание и намек, требуя от зрителей максимально активной позиции» [1]. Отсюда, по мнению В.В. Костюк, свойственный импрессионизму «культ этюда» [2], достоинства которого определяются не какой-то особой проработанностью и законченностью, а прежде всего эмоциональностью, остротой восприятия увиденного и его выразительной передачей. Ослабленный сюжет, ассоциативность, лейтмотивность структуры, фрагментарность, мозаичность, субъективность повествования, компактность, миниатюризация, лиризм – признаки, составляющие основу жанровой парадигмы импрессионистского этюда.
Часто на воплощение данной жанровой модели в тексте указывает заголовочный комплекс, становящийся жанровым маркером. Важно учитывать, что интермедиальная номинация этюд в одних случаях максимально соответствуют жанровому содержанию (например, в книге А. Галунова «Вереница этюдов» (1907), в лирической зарисовке Б. Гунько «Былое. Этюд» (1910), в других – указывает на специфический характер отдельных носителей жанра. Репрезентативным образцом может послужить цикл Н. Колоколова «Этюды» (1930).
Авторское обозначение жанра указывает на импрессионистскую категорию остановленного мгновения, выхваченного из обыденного течения жизни. Художественное единство состоит из двух небольших, сюжетно автономных рассказов, в которых описываются жизненные случаи, ставшие источником лирической рефлексии, составившей основу текста. Актуализируется импрессионистская категория случайности, выражающаяся в выдвижении на первый план, казалось бы, второстепенных, ничем не примечательных деталей и явлений жизни, свойственная импрессионистской поэтике.
Сюжет первого рассказа «Затейливый старик» довольно прост: на железнодорожной станции, где все люди погружены в состояние тягостного ожидания, где царит «томительная скука» и «скучная жалоба» на бесприютность, на нужду, на болезни [3, с. 255], появляется затейливый старик, который нарушает гнетущую вокзальную тишину, разрываемую глухими, полными страдания, отчаяния, злобы и недовольства, звуками, веселой песней, создающей атмосферу тепла и света. Рассказ основан на контрасте между безнадежной и обреченной жизнью, лишенной ощущения праздника, воплощенной в образе хмурого «сухощавого мужика, на душе которого слякоть» [3, с. 256], в образе «безбрового мальчика с белым, как известка, лицом, с оловянными глазами», который «надломленно прыгает по грязному вокзальному полу», и жизнью счастливой, олицетворенной в образе затейливого старика, балагура, который «несет огромное богатство – подушку мягче лебяжьего пуха и множество прикрас на жизнь и на думу» [3, с. 257], то есть радость, растревожившую вокзальную скуку, но оказавшуюся ненужной людям, с осуждением и презрением воспринявших увеселяющего их старичка. В основе сюжета рассказа «Северные сады» передача впечатлений героя от пребывания в одном из северных городков, в котором его поражает прежде всего обилие цветов. Из разговора с местным жителем – педагогом, страстным цветоводом, повествователь узнает о том, что выращивание комнатных цветов, которых называют садами, дает возможность северянам создать иллюзию юга, тепла, столь необходимого людям, вынужденным постоянно бороться с суровыми, холодными условиями жизни и потому погруженным в мечты о южном солнце и море. Стремление к югу, солнцу, теплу соотносится с желанием обрести свободу, радость, полноценное счастье. Рассказы связаны друг с другом ассоциативно. Песня из уст затейливого старика и цветы северян становятся знаками радости и человеческого тепла, своеобразным проблеском в беспросветной жизни, которая часто делает людей неспособными видеть прекрасное.
В цикле создается предельно реалистическая объективная картина, переданная через призму восприятия рассказчика, окрашенная лирическим чувством. Главным является фиксация непосредственного впечатления героя-повествователя, случайно оказавшегося в довольно обыденной ситуации. Ее созерцание приводит к важным мыслям о человеческой природе (о неумении людей радоваться жизни и о бесконечном стремлении к свету, счастью), которые прямо не формулируются в тексте, но даются намеком, активизирующим читательское восприятие.
Единство циклического единства прослеживается на композиционном уровне. Каждый из рассказов открывается лирически окрашенной картиной, которая задает тон повествованию, настраивает на определенную эмоциональную волну. При этом образы, детали, включенные в описание в начале текста, повторяются в финале, за счет чего возникает композиционное кольцо, свидетельствующее об интонационной, эмоциональной однородности произведения. К тому же обнаруживается единство на стилистическом уровне. Номинативные конструкции, короткие предложения в начале каждого рассказа вводятся для активизации ассоциативного восприятия читателя. Подобная манера соответствует «телеграфному» стилю импрессионистов, которым важно запечатлеть мгновенные, бессвязные события и образы сквозь призму своего восприятия.
Зарисовка, открывающая рассказ «Затейливый старик», передает довольно мрачное, унылое настроение. Мир природы и мир человека сливаются, что указывает на импрессионистский пейзаж души, пронизанный энергией чувства:
Осклизлая осень. Кисельное небо и кисельная земля. Железнодорожная станция, увязнувшая в редком и голом перелеске. Мокрая ворона летит над вокзалом, полным томительной скуки <…>
Скука, как промозглый туман, стоит в вокзале. И когда из конторы, вслед за телефонным звонком, глухо доносится низкий голос телефониста, – кажется, что заблудившийся в тумане человек безнадежно и обреченно жалуется на свою беду.
Мир полон жалобы. Там – за стенами вокзала – жалуются на бесприютность: тучи – дождем, осинник – дрожью, ворона – криком. Здесь несколько взрослых людей, ожидающих поезда, жалуются нудными словами, – на плохую погоду, на нужду, на болезни…[3, с. 254]
Сумрачная картина выражает безнадежность, обреченность и отчаяние человека, не желающего принимать радость, не стремящегося изменить свое положение. В финале рассказа печальная тональность сохраняется:
В окно вагона смотрит осклизлая осень. Где-то в голом перелеске скользят по узкой тропинке шаги затейного [3, с. 258].
Семантически значимый образ осклизлой осени становится знаком мира, в котором царят безысходность, тоска и уныние. Повтор образа в начале и финале текста выполняет роль эмоционального камертона, что свидетельствует о выдержанности рассказа в едином эмоциональном ключе. Мотив пошлой обыденности и житейского прозаизма становится смыслообразующим в первом рассказе, раскрываясь в структуре текста, он создает особую мелодию, контрастную той, которая звучит в следующей части цикла.
Второй рассказ начинается с завораживающего описания северной природы, возникает обманчивое впечатление за счет того, что образ лета создается зимними красками. На фоне холодной красоты ярче прорисовывается образ цветов, соотносящийся с мечтой о юге, солнце, тепле, радости и гармонии:
Дочерна закопченные домики. Кое-где на оконных стеклах годы оставили радужный след. В улицах – дремотная тишина. На заводском пруду, у маленькой пристани, стоит маленький, будто игрушечный пароход. За прудом, за дальним лесом матово синеет хребет Урала, и перламутрово белыми пятнами стынут на нем снега. И облака над городом белоснежны, и снежными хлопьями летит пух с тополей. <…> И странно, как в сказке, просвечивают из нетающего снега или покачиваются над ним от чуть приметного ветра распустившиеся цветы [3, с. 258].
Финал рассказ поддерживает настроение светлой грусти, связанной с несбывшимися мечтами, с иллюзорностью, призрачностью желаний, воплощением чего становится лейтмотивный образ хрупкого, игрушечного пароходика:
Нетающим снегом летит с тополей пух, легчайшей порошей пеленает землю <…>.
Мы выходим на плотину заводского пруда, раскинувшегося на несколько верст в длину и в ширину и чуть синеватого под оживающим ветром. <…> У пристани покачивается легкий и хрупкий пароходик, на котором никому не плыть к южным морям [3, с. 260].
Повторяющиеся в рассказах чувственно окрашенные образы рождают ритмические переклички и создают общий характер интонации, особую лирическую атмосферу, выражающую вечное стремление человека к красоте, к мечте, свету и одновременно тоску по невозможному.
Так, в особенностях сюжета и композиции, обусловленных передачей случайных впечатлений, вызвавших поток ассоциаций и уводящих в сферу чувств и эмоций, проявляются черты, свойственные жанровой манере этюда (компактность, ассоциативность, острота восприятия увиденного, эмоциональная доминанта, чувственная окрашенность образов), адекватно воплощающего импрессионистский мирообраз. Данная авторская номинация включена в заголовок, с помощью которого задается жанровый модус восприятия текста.
Библиографический список:
1. Мартышкина Т.Н. Импрессионистическое мировоззрение в западноевропейской культуре века: истоки, сущность и значение: автореф. дисс. … канд. культурологии / Т.Н. Мартышкина. – Нижневартовск, 2008. – С. 17.
2. Костюк В.В. Поэзия и проза Е. Гуро: к проблеме творческой индивидуальности: дисс. … канд. филол. наук / В.В. Костюк. – СПб, 2005. – С. 85.
3. Колоколов Н. Этюды / Н. Колоколов // Ровесники: Сборник содружества писателей революции «Перевал». – М.; Л.: Земля и фабрика, 1930. – С. 253–260.
Полная версия статьи опубликована в сборнике Наука ЮУрГУ: материалы 65-й научной конференции. Секции социально-гуманитарных наук: в 2 т. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. — Т. 1. — С. 51–55.
| Поделиться: |
Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:09]








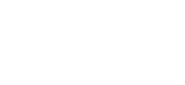











 Фотогалерея
Фотогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Афиша
Афиша Общественное обсуждение
Общественное обсуждение Контакты
Контакты Карта районов Челябинска
Карта районов Челябинска