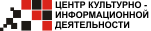Е.В. Пономарева
Родовая двусоставность, двуплановость, понимаемая как синтез драматического и эпического начал, присуща большинству произведений
М.А. Булгакова и может быть квалифицирована как особенность художественной манеры, специфического способа миромоделирования, присущего художнику. Применительно к прозе писателя можно говорить о диалогическом соотношении родовых начал (эпоса и драмы), а также видов искусства (литературы и театра; литературы и кинематографа). Этот диалог, как правило, фиксируется на каждом из трех уровней жанровой модели: концептуальном; уровнях внешней и внутренней формы произведения.
.jpg)
Синтезирование эпического и драматического начал не являлось для писателя простым экспериментом: соединение элементов эпоса и драмы в рамках эпического произведения позволяло объединить прежде всего смысловые константы, обусловленные природой каждого из родов литературы. Событийность, повествовательность и объективность – черты, которые по Гегелю, определяют содержание эпоса, М.А. Булгаков органично соединяет со специфическими чертами миромоделирования, предназначенными для сценического воплощения. Характеризуя творчество великого писателя, можно объективно констатировать, что созданные им драмы, бесспорно, несут на себе черты эпического полотна, и в свою очередь, проза, напротив, обладает чертами сценичности, драматургической природой [3, с. 31–68]. Художественными образцами, репрезентирующими эти явления, являются роман «Белая гвардия» [1] и его «сценический двойник» – пьеса «Дни Турбиных» [2]. Про-демонстрируем действие этих механизмов, опираясь на анализ романа «Белая гвардия».
Текст эпического произведения перенасыщен элементами, имитирующими драматургические, выступающими в функции рамочного комплекса драмы – ремарки, занавеса, границы сцен. В романном тексте писатель использует подобие драматургической афиши – фиксирует ключевые характеристики героев: «Алексею Васильевичу Турбину, старшему - молодому врачу - двадцать восемь лет. Елене - двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу - тридцать один, а Николке - семнадцать с половиной» [1, с. 441]; создает подобие ремарок, предваряющих «действие»: «Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе - в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета,– столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками <…> Старший бросает книгу, тянется» [1, с. 441].
В таких «эпических ремарках» автор выступает и как режиссер, «дающий советы, комментарии героям»: «Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах - жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко» [1, с. 445]. Скупость», телеграфность, отсутствие описательности – устойчивая стилевая черта фрагментов, содержащих подобие ремарки; при этом графически такие фрагменты соотносимы с оформлением драматического текста: «Приезжает эта лахудра – полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. <…> Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь..» (Мышлаевский заговориил своим обыкновенным голосом)…» [1, с. 451]; «О ком же? (бас, шепот). Ук-раинской народной Республике? – А черт ее знает… (шепот)…» [1, c. 640]. При помощи нагнетания специфических деталей писателю удается организовать сценическое пространство: «Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьер…» [1, с. 441]. Одной из ключевых сценических смыслообразующих деталей в произведении является печь. Причем эта графически воссозданная деталь организована таким образом, что читатель буквально «видит» печь, а не просто читает надписи:
«Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следую-щие
исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого
года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:
«Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, - не верь.
Союзники - сволочи. Он сочувствует большевикам».
Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
«Улан Леонид Юрьевич».<…>
Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.
Подпись:
«Бей Петлюру!» <…>
Печатными буквами, рукою Николки:
«Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой
расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома.
Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер,
1918 года, 30-го января» [1, с. 413–414].
Разрушающиеся, деформирующиеся детали – примета трансформирующегося против воли героев пространства: лопнувшие стекла, разрушающийся город, разбитый сервиз, стертые записи.
Действие в романе «разыгрывается «здесь и сейчас»: используя формы настоящего времени, подробно характеризуя пространственные перемещения героев, нюансы изображаемого, автор как будто помещает читателя внутрь сцены – непосредственно в эпицентр событий, психологически устраняя таким образом «рампу»: «Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганы. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют в двенадцати верстах от города, не дальше. Что за штука Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. <…> Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. <…>
В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок» [1, с. 440]. Экспозиции мизансцен в «Белой гвардии» даются абсолютно в театральной, драматургической манере: «Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположной – Мышлаевский, мохнат, бел, в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах - стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола, с одной стороны Алексей и Николка, а с другой – Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке – Ка-рась» [1, с. 446].
Особенная роль в произведениях М.А. Булгакова отводится источ-нику освещения, который может обладать семантической значимостью (традиционно это антитеза электрический свет / абажур), а также выступать в роли «театрального прожектора», конусообразно источающего яркий свет (подобный прием является организующим в рассказе «Налет» с подзаголовком «В волшебном свете»).
Писатель создает очень точные речевые портреты героев, позво-ляющие узнавать персонажей даже без авторcкого предварения образа говорящего:
- Гетман, а? Твою мать! - рычал Мышлаевский. - Кавалергард? Во дворце?
А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь
думал - пропадем все... К матери! На сто саженей офицер от офицера - это цепь называется? Как кур чуть не зарезали! [1, c. 451]; «Сказав пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам» [1, с. 467].
Пространство романа «костюмировано», в нем периодически возникают маски, которые Булгаков часто называет «фигура», либо харак-теризует по какой-либо значимой, ключевой детали (шинель и др.). Роль костюма смыслообразующа: при помощи таких деталей организуется концепция игры, театральности; переодевание вводится как элемент карнавальной культуры и как знак страшного, опасного и нелепого исторического карнавала (переодевание гетмана, Тальберга, сдергивание погонов и переодевание в гражданское и др.), сопровождает действие и характеризует масочность, опереточность событий (не случайно оперетка – один из ключевых словесных образов в романе; гетмана приводят к власти в цирке; все происходит как в страшном сне, нелепом театре). «Белую гвардию» объединяет трагифарсовое начало: «Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. <…> - Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, - говорил Тальберг и блестел в странной, гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда»
[1, c. 457], реализуется мотив трагической игры, в которой человек неизменно оказывается разменной пешкой: «…нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон – офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и сквер-ный игрок - получает его деревянный король мат» [1, с. 485].
Реальная история изображается театральными средствами – автор развенчивает ее театральный, маскарадный характер. Трагизм заключает-ся в том, что этот карнавал, все его участники не обладают волшебной силой возрождения, как это бывает в пространстве игрового карнавала. В этой игре вещи выступают в непривычной им функции – пространство разрушается, все вокруг используется не по назначению, но это не рождает комического эффекта, а демонстрирует, опредмечивает и овнешняет идею подступившего хаоса: «Была бы кутерьма, а люди найдутся» [1, c 497]. Булгаков традиционно «сужает» пространство, выхватывая, укрупняя образы, подчеркивая психологически значимые детали: «Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. <…> Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, с узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. <…> Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольноопределяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног» [1, с. 502–503].
Граница сцен выстраивается по принципу венка сонетов, Булгаков создает прозаическую «имитацию занавеса», который «закрывается» - «откры-вается» – финал одной части практически буквально воспроизводится в начале следующей: «В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и вставал и расходился туман. – ЧАСТЬ ВТОРАЯ. – Да, был виден туман» [1, с. 534–535].
В функции «занавеса», границы мизансцен выступают также сны героев, вносящие в произведение символическую стихию, переводя действие в ин-туитивно-мифологический план, позволяющие продемонстрировать работу подсознания героев (что невозможно реализовать в драме).
Одним из сквозных булгаковских образов, выходящих на первый план в романе, является метель, вьюга, исторический вихрь, вздыбивший историю, разрушающий и внешнее пространство, и жизнь человека. Образ города – один из ключевых в романе – (чего нет в пьесе) является самостоятельным героем произведения. Им открывается все действие в романе, он лейтмотивно организует все пространство произведения, дается на резких эмоциональных перепадах: от восторга, влюбленности, трепетного отношения – до страха, неприятия, подчеркивания враждеб-ности. В экспозиции он представлен в виде лирического отступления: «Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег…» [1, c. 477].
Масштабы деформации этого образа поражают – город меняется, рожда-ется атмосфера сумбура, суматохи, путаница, тревожной, беспорядочной суеты: «Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка…» [1, C. 480].
Булгаков использует сочетание планов, сталкивая прошлое / настоя-щее; внутреннее / внешнее; личностное / историческое; историческое / бы-тийное. Романная модель в большей степени позволяет воплотить такой мирообраз по сравнению с драмой. Устойчивая примета художественного мышления писателя – десакрализация – изобличение показной религиозности, в той же, а может быть, и в большей степени напоминающей маскарад, что и профанные события, окружающие героев повседневно. Перед читателем возникает страшная «постановочная» сцена, исполненная хаоса и греха»: «Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным, тройным слоем <…> Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками» [1, с. 639].
Божественное начало переносится при этом в человеческую душу (Елены, Николки), либо существует за пределами города, погрязшего в кошмаре. При этом настоящая вера героев неканоничная, она очень земная. Елена интуитивно, а не затверженно выбирает слова, когда молится о спасении Алексея; Николка устраивает христианский обряд похорон Най-Турса): «И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над двором анатомического театра, была ночь, снег, и звезды крестами, и белый Млечный путь» [1, с. 665]. Похороны настоящего героя, чистого человека – Най-Турса – изображаются как сакральный обряд, данный на контрасте с показным, пафосным крестным ходом. Образ воссоздается зеркально – от тьмы – к свету, от хаоса – к порядку, от частной судьбы – к вселенской истории. Таким образом рождается мотив жизни души. В финале действие вновь из сакрального плана переводится в исторический. Соединяются все нити, пронизывающие структуру романа: и философско-сакральный, и объективно-исторический, изобразительный и выразительный лирический планы. Мощная лирическая стихия – как способ окрашивания текста определенной интонацией, лишающей его монотонности, и, конечно, как способ практически открытого проявления авторской позиции, демонстрации авторской идеи отличает «Белую гвардию» от ее «драматургического эквивалента» – «Дней Турбиных»:
«А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?
Нет. Никто.
Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет
землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не
останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее
не будет.
Никто» [1, с. 679–680].
Перевод в сакральный план, использование поэтики сна, невозможно в не-экфрастической драме, но вполне органично для эпического произведения: в финале романа М.А. Булгаков создает эффект разомкнутого действия: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» [1, с. 685].
Анализ романа «Белая гвардия» позволяет прийти к выводу о том, что текст произведения решен в опоре на драматургические принципы: стройность сюжета (в сочетании с разветвленностью, присущей роману), занимательность фабулы, обилие внешнего действия, четкая линия характеров, портретная (и внешняя, и речевая, и внутренняя) героев; стремление к объективности, присутствие локального (наряду с бытийным) изобразительного плана, прочерченность сюжетных линий, и если не разрешение, то приведение текста к исходной точке (своеобразная форма рондо), акцент на создании атмосферы, наличие мощной системы оппозиций, событийных и эмоциональных перепадов, позволяющих поддерживать напряжение, – драматические элементы, присутствующие в масштабном эпическом полотне М.А. Булгакова.
Пьеса имеет большее количество формальных ограничений по сравнению с романом, в котором создается мощный подтекст, выстраивается сложная смысловая вертикаль «Дом – Город – Украина – Россия – История – Вселенная», лишь намеченная, схематически данная в «Днях Турбиных». При этом центром этого мира и главной ценностной единицей авторского измерения неизменно является человек. Пьеса как камерная жанровая модель, по сравнению с романом, выполняет свою функцию, но все масштабное, панорамное остается за ее пределами, в то время как в романе этот план составляет значительную часть художественного полотна.
В пьесе «Дни Турбиных» наблюдается экономия сюжетных линий, большая степень схематизации (и события, и характеры даются концентри-рованно, усеченно – образ Алексея Турбина, например, вбирает в себя и образ самого «романного» Алексея, и Най-турса, и полковника Малышева); в романе присутствует жесткий натурализм, которого не может быть в пьесе, но это создает очень яркий, необходимый автору эмоциональный эффект. Модель романа позволяет «замедлить, растянуть планы» (детально, как бы изнутри, воссозданная сцена бегства Николки через город, поединка с дворником).
Волей художника в финале писатель приостанавливает события во времени, но воля истории диктует обратное: разрушение, крах как единст-венно возможный результат братоубийственной войны, неминуемы, укры-тие Турбиных – временно и непрочно. Рождается мотив крушения прежнего мира. Единственное, что остается героям и что вообще остается миру, чтобы не быть разрушенными до основания, – сохранить достоинство, честь, верность, чувства, преданность друг другу и своей идее. Однако и в пьесе, и в романе при очень точной прорисовке настоящего отсутствует будущее время. Не случайно и в одном, и в другом произведении все заканчивается вопросом. В будущем, скорее всего, нет места Турбиным и их близким. Этот сложный диалог с историей оказалось невозможно разрешить ни силами драмы, ни романа – слишком много тупиков оказывалось перед героями, которые, подобно чеховским персонажам, так и остались в прошлом. Самая сложная драма (история воздает не по делам, не по заслугам) оказывается открытой и не-разрешенной и в одном, и в другом произведениях.
Библиографический список:
| Поделиться: |
Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:15]








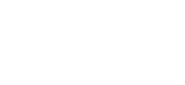











 Фотогалерея
Фотогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Афиша
Афиша Общественное обсуждение
Общественное обсуждение Контакты
Контакты Карта районов Челябинска
Карта районов Челябинска