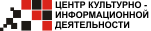Е.В. Пономарева
Бесспорно, когда речь заходит о чистоте научного осмысления материала, необходимо в первую очередь отсечь соприродные явления, которые лишь отчасти соотносятся с книгой художника: ни иллюстрации, сколь бы субъективно окрашенными и «самостоятельными» они ни были, ни фигурные тексты, ни рукописные альбомы, столь распространенные на рубеже XIX и XX вв., ни столь популярные комиксы не соответствуют в абсолютном смысле формату, означенному как книга художника. К опыту создания книги обращаются сегодня И. Кабаков, Г. Брускин, М. Кантор, А. Макаревич, П. Пепперштейн и другие авторы.
Степень связанности, коррелятивности изображения и вербального текста, причина и цель создания такой художественной модели в каждом произведении остается разной: текст может выступать авторской иллюстрацией к картине или наоборот, может рождать самостоятельные смыслы, возникающие в качестве рецептивного переживания прочитанного. В любом случае именно диалогичность можно квалифицировать как конститутивный принцип создания, функционирования и коммуникативных механизмов, которыми обладает книга: это и диалог двух типов «текста» (изображаемого и вербального, осязаемого зрительно и прочитываемого), и диалог форм выражения авторства (связанный с проблемой творческой рефлексии, когда художник пытается выразить свой мир, моделировать свой мир непривычным для него способом), и сюжетный диалог (рисунок и текст, при тесной внутренней связи, сохраняют собственную «внутреннюю» сюжетность и могут восприниматься не только в сочетании, но и автономно). Особые коммуникативные механизмы, рассчитанные на активизацию вербального, активно воспринимаемого компонента, становятся условием успеха, популярности книги в читательской аудитории.

В случае же с книгами Владимира Любарова речь идет именно о специфике творческого мышления, сложившегося постепенно, обладающего особой органикой. Попытка совместить два взгляда на действительность позволила автору создавать настоящие художественные полотна, в которых «холст» и «страница» не просто не перебивают, а, напротив, существенно дополняют друг друга. Книги-альбомы В. Любарова «Рассказы. Картинки» (2011) [1] и «Праздник без повода» (2014) [2] рисуют портрет художника на фоне его эпохи, страны, народа, столичных улиц, коммуналок, городской и деревенской жизни, позволяя создать собирательный портрет времени и людей, которых сегодня принято именовать обидным словом «совок». Можно ли причислить книги В. Любарова к какой-то из существующих литературных тенденций? Что они представляют собой: художественное произведение или документ, обретающий эстетические характеристики? Чем являются книги художника: данью моде или способом высказывания не только талантливого, самобытного художника, но и прекрасного рассказчика? Остается ли книга собственно текстом или объемным художественным миром, который «оживает», олицетворяется в картине и сопровождается рассказом? Ответить на эти вопросы можно лишь после обращения к поэтике книг В. Любарова.
Когда речь заходит о творчестве, сопряженном в первую очередь с оригинальностью, сложно четко определить формат, в том числе и жанровый. Книга художника – вопрос, который сегодня активно дискуссируется. И литературовед, откликаясь на подобные явления, в первую очередь должен апеллировать к мнению представителей творческой среды, в которой книга также является объектом осмысления. Как и любой артефакт, книга воспринимается в первую очередь внешне – поначалу читатель зрительно выделяет тот или иной объект и только потом начинает более детальное знакомство с ним. Генетические истоки данного явления позволяют отчетливо зафиксировать «аформатность» таких книг: модные альбомчики или рукописные книги рубежа веков (например, авторские книги А. Ремизова, существовавшие в единичных вариантах) «передали эстафету» альбомным экспериментам Зощенко и Радлова в 1920-е годы; к этому же явлению можно причислить отчасти вынужденно попавшую в такой формат литературу самиздата 1970 – 80-х годов; творческие эксперименты А. Вознесенского и др. Бесспорно, и цели создания, и мотивация, и способы художественного миромоделирования в каждом случае свои (и в первую очередь зависящие от творческой манеры автора). Но очевидно и объяснимо одно: книга художника уже по формату, оформлению должна быть необычной.
По мнению известного художника-иллюстратора Леонида Тишкова, «Книга обладает предметными свойствами, она – объект, вещь. В ней все важно: и вдавленность литеры в бумагу, сама бумага, обрез, иллюстрация, формат, шелест страниц и тяжесть блока. Мне кажется, в ближайшее время должен наступить расцвет книги художника, потому что массовая литература уходит в «цифру», а люди по-прежнему нуждаются в тактильном общении с текстом. Такое общение может дать малотиражное издание, которое сохраняет приметы объектности, и от которого мы можем получить эстетическое переживание» [5, с. 79]. Книги В. Любарова в этом смысле аформатны по отношению к обычному книжному формату, но вполне отвечают формату альбома, исполнены в альбомной технике, на мелованной бумаге, с отличным качеством репродукций. Кроме того, книга не «обречена» на то, чтобы, будучи прочитанной, попасть на книжную полку: она будет рассматриваться сколько угодно, так как в ней представлены известные циклы картин: «Деревня Перемилово», «Город Щипок», «ФизкультПривет!», «Еврейское счастье», помимо этого книга выступает отличным справочным материалом и содержит такие важные компоненты, как «Хроника», «Музейные коллекции», «Частные коллекции», «about the artist vladimir lubarov», «Основные выставки». Таким образом, в одну из сильных позиций книги – в финальную часть – помещены наиболее важные сведения о В. Любарове-художнике, и после прочтения рассказов, читатель все же фокусирует внимание на живописном творчестве автора. Мы неслучайно привели высказывание Л. Тишкова: оно аккумулирует очень важные смыслы и логически намечает следующий вектор исследования, заставляет обратиться к вечному спору о том, что же все-таки первично и в творчестве отдельного автора и в искусстве в целом – слово или изображение?
Разделить текст и иконику иногда практически невозможно вследствие органичности и неделимости их связи. Мы не можем сделать этого, когда речь идет, например, о даблоидах, отчасти комиксах, текстах, оформленных в качестве изображения. Одна из проблем, как отмечалось выше, относится и к дифференциации подобных арт-объектов на изобразительное искусство и литературу. Обращение к книгам Владимира Любарова свидетельствует о том, что не всегда, даже если речь идет об органичном и достаточно плотном соединении двух компонентов текста, книга становится неделимым целым: и «Рассказы. Картинки», и «Праздник без повода» – это сплетение, диалог изображенного и выраженного словесно. Художник при этом трижды переживает то, что становится предметом творческой рефлексии: вначале – изнутри реальных жизненных обстоятельств, затем – воссоздавая увиденное и прожитое на полотнах, а после – описывая характеры и эпизоды в рассказах.
.jpg)
Установка на типическое, умение видеть сущностное и в то же время неожиданное, казалось бы, в привычном и ожидаемом – особенности художественной манеры В. Любарова. «В деревне Перемилово я неожиданно для себя начал рисовать своих односельчан и жителей окрестных деревень. Честно говоря, их портреты я рисовал не совсем с натуры, а скорее, из головы, где все персонажи, подсмотренные мною в реальности, перемешивались и становились не совсем такими, как на фотографии…Понимаешь, Вася, – умно сказал я, – я нарисовал как бы собирательный образ. А в нем и ты, и Коля Малышев, и Ванька Бухарик. В общем, архетип» [1, с. 182].
Каждая из книг представляет единство, построенное на принципах соединения ставших знаменитыми серий картин, с сериями связанных с ними рассказов, зарисовок, эскизов: манера художника предполагает, с одной стороны, умение всматриваться в характеры и подробности жизни, улавливать неуловимое, «прорисовывать» то, что выпукло смотрится на первом плане и, казалось бы, лишь намечается на втором. С другой стороны, как художник, Любаров в ряде случаев пунктирно прорисовывает характеры, либо напротив, прибегает к технике яркого мазка. При этом яркость не выглядит лубочной, а изображение стилизованно-спрямленным: деликатность рассказчика, с одной стороны находящегося внутри описываемых ситуаций, а с другой – смотрящего на происходящее несколько со стороны, объединяющего произведения своим ощущением, рождающем общую атмосферу, сохраняется даже в тех случаях, когда ситуация приближается к анекдотичной («Директорский туалет», «Тайна одного клада» и др.). Отсюда – сочетание автобиографического начала (книга пишется о себе, о людях, которые окружали и окружают, представляют загадку и интерес для автора) и эпического, иногда переходящего почти в открытый лиризм («Леша и Зоя»); иронии (никогда не переходящей в снисходительность) и дружелюбно-трепетного отношения к тому, что кажется обыденностью, но скрывает в себе обаяние характеров и реалий, казалось бы, внешне непривлекательной, чрезмерно скромной, обытовленной будничной жизни. Поэтому неизменно создается впечатление «двойного текста», двойного кода: те, кто интересуется творчеством В. Любарова, отмечали, что в его произведениях названия картин, а вслед за этим и названия рассказов, чрезмерно просты и равны себе. Так, если в оглавлении книги «Рассказы. Картинки» четвертая часть озаглавлена «Вещи и овощи», то читатель будет видеть и читать «об овощах». Названия картин очень некартинные: «Света приготовила закуску на зиму», «Горошек», «Картошка», «Репчатый лук». Но на самом деле все эти детали пропущены сквозь призму человеческого отношения, авторской рецепции: сквозь обыденное, повседневное читателю и зрителю транслируются сокровенные чувства; при отсутствии нарочитой, «картинной» рефлексии произведения не утрачивают глубинного смысла. И в этом – один из ключей к разрешению загадки феномена книжного творчества В. Любарова: его картины не всегда «правильно», не так, как это хотелось бы художнику, воспринимаются зрителями. Неслучайно сам художник становился неоднократным свидетелем продажи на Арбате яркораскрашенных принтов, имитирующих его собственное творчество. При этом автора удручала эта чрезмерная яркость, лубочность. Но как только рисунок в книге-альбоме получает обрамление в виде параллельного с ним текста и личных фотографий на фоне эпохи и ее рядовых героев, все становится на свои места: полутона, тонкая атмосфера, деликатность повествования и изображения в прозе не позволяют вообразить картину крикливо-яркой. Наверное, можно говорить о том, что текст не просто дал возможность художнику полно выразить себя, но и выступил в роли камертона к правильному восприятию картин. И хотя в предисловии к «Рассказам. Картинкам» В. Любаров говорит о случайности обращения к жанру книги, знакомство с его творчеством, с личностью художника, напротив, позволяет оценить это как закономерность. Можно говорить о том, что как и в творчестве одного из любимых писателей
В. Любарова, С. Довлатова, случай становится частью проявления закономерности. Это калейдоскоп, казалось бы, случайных, иронично осмысленных, совпадений, случайностей, характеров (на таких принципах миромоделирования строится, например, цикл С. Довлатова «Наши»). Объектом интереса, предметом наблюдения, переживания Любарова становятся все те же «наши», а при всей доходящей до острой гротескности, абсурдированности ситуаций, сохраняется подчеркнуто теплое отношение к людям как обязательной, важной и замечательной части жизни. Отсутствие идеализации и вместе с тем «инвективности», разоблачительной интонации создают особую энергию теплой доверительности к тому, о чем и к тому, как пишет автор свои произведения. «Берешь ручку, бумагу, пишешь. Потом жена Катя это набирает на компьютере, исправляет ошибки, иногда редактирует. Вот и все. И никаких накладных расходом! А живопись? Надо покупать кисти, краски, холсты – сплошное разорение… А главное, когда пишешь, придумывать ничего не надо: что было – о том и пою. Как акын. Ну разве что иной раз привру для красного словца. Так пел я, пел – и вдруг обнаружил, что напел на целую книжку. Рассказал почти про всю свою жизнь – от рождения и до сегодняшнего дня» («Вместо предисловия») [1, с. 5]. Конечно, такое автопризнание можно расценить как шутку, но в ней велика доля истины: органичность прозы В. Любарова в ее «вещественности», меткости, какой-то особой энергии правды, которая позволяет поверить, всмотреться и вжиться в мир, который скорее не конструируется а возрождается в книгах автора. Органичность, естественность творческой манеры художника и писателя столь высока, что ее очень сложно охарактеризовать, используя традиционный литературоведческий, искусствоведческий инструментарий: любые термины выглядят искусственными, сухими и вычурными на фоне естественной стихии рассказывания, которыми обладает сам Любаров. Наверное, в данном случае важнее других сюжетов именно сюжет рассказывания, который и рождает особую атмосферу, выступающую скрепой в художественных единствах – книгах, – выступающих как соединение мозаичных разделов-циклов, а также двух типов «текстов» в единое целое.
Мир в книгах мозаичен, но неделим, он не подлежит препарированию или тем более разъятию на полюса. Он пронизан иронией, но в нем – одинаково теплое и трепетное отношение ко всему, чего касается взгляд художника (к характерам, обстоятельствам, подробностям жизни и быта). Изображаемое неизменно рождает второй план – выражаемое. Заголовочно-финальный комплекс в данном случае означивает лишь первый план, а второй, глубинный, возникает только в самом тексте и заставляет проникнуть за завесу авторской иронии, задуматься о глубинном, сущностном, касающемся смысла и способа человеческого существования («Леша и Зоя»), сложности и многомерности и подчас необъяснимости мира и человека в нем («Русалка»), естественности, которая подчас парадоксально открывается через абсурдированность («Буза в деревне Перемилово»). Эти книги очень важны и вчера, и сегодня, и будут нужны завтра, потому что они выступают неким этическим и эмоциональным камертоном состояния, которое наполняет, казалось бы, повседневное, а вследствие своей «ритуальности», цикличности, ошибочно производящее ощущение бессмысленности, существование очень важным смыслом. В мире В. Любарова нет упрощенности, но есть простота, позволяющая пронзительно говорить о важном, актуализировать детали, явления и смыслы, универсальные для человека, который, может быть, и не принимает чего-то в этом мире, но ищет и находит дорогу к нему не через попытку отрицать, а через желание понять и полюбить то, что рядом, то, что было и должно оставаться неизменным. Фраза «стихия жизни» выглядит очень картинно по отношению к творчеству В. Любарова. Скорее речь идет именно об атмосфере жизни, характеров и самого автора, распространяющего свое тепло на все, о чем бы он ни говорил. К себе как к писателю я отношусь с большой иронией. Но если отвечать на ваш вопрос, то писатель и художник во мне устроены совершенно по-разному. Художник может сочинить, наврать, его задача – раскрыть некий образ. Я почти ничего не рисую с натуры – считаю, что все необходимое откладывается в подсознании, и активно применяю то, что называется фантазией. А когда пишу тексты, записываю то, что видел и знаю. Не пытаюсь из себя изобразить какого-то такого настоящего писателя. Мне просто важно дополнить картины, хотя я далеко не всегда их поясняю, ведь я иногда пишу о том, что к ним довольно косвенно относится. Но я предлагаю людям еще один способ погружения в то, что они видят. Может, потом еще музыку сочиню (это я шучу, конечно)» [4].
Завершая этот частный разговор о важной части творчества Владимира Любарова, вернемся к вопросам, которые были поставлены в начале статьи, и постараемся кратко на них ответить. Итак, книги В. Любарова, как и его творчество в целом, настолько самобытны, что вряд ли их можно безоговорочно причислить к любой существующей тенденции (для «эпоса» они чрезмерно лиричны, для лирики – драматичны, для нон-фикшна – живописны, художественны). Они могут быть расценены и как документ, обретающий эстетические характеристики и одновременно как художественный мир, «маскирующийся», «транслирующийся» через документ. На вопрос о том, являются ли книги данью моде, ответить проще, потому что категория моды уж точно не срабатывает там, где речь идет о предельной естественности и искренности. А вот дар прекрасного рассказчика, обладающий очень притягательной манерой рассказывания – фактор, объясняющий успех и устойчивый интерес к книгам «Рассказы. Картинки» и «Праздник без повода». При этом обилие кавычек в любых попытках литературоведческой квалификации поэтики произведений В. Любарова в очередной раз демонстрирует условность и определенную неестественность в попытках научного означивания живого мира, создаваемого художником. Удивительно точно охарактеризовал художественный мир В. Любарова А. Макаревич: «Каждая его картина – маленькая сказка, грустная и ироничная, с началом и концом. Любаров не рисует своих персонажей – он рассказывает их. Его сюжеты – вроде бы из нашей сегодняшней жизни, а манера – вне времени, такое могло быть написано и сейчас, и сто лет назад.
И при этом – фантастически современно.
И – необыкновенно узнаваемо.
К его картинкам возвращаешься, как к любимой книге» [3].
Литература:
| Поделиться: |
Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:16]








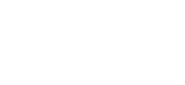











 Фотогалерея
Фотогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Афиша
Афиша Общественное обсуждение
Общественное обсуждение Контакты
Контакты Карта районов Челябинска
Карта районов Челябинска